О семье Устина и Марфы Шрубковских
(для увеличения фотографии нажмите на нее)
 Корни Устина Антоновича Шрубковского и жены его Марфы Антоновны следует искать на Украине в селе Войтовцы Летического уезда Подольской губернии. Ныне это село носит название Грушковцы и находится в Летичевском районе Хмельницкой области.
Корни Устина Антоновича Шрубковского и жены его Марфы Антоновны следует искать на Украине в селе Войтовцы Летического уезда Подольской губернии. Ныне это село носит название Грушковцы и находится в Летичевском районе Хмельницкой области.
Хмельниччина находится на стыке Правобережья и Западной Украины. В более узком понимании территория области принадлежит Волыни (северная часть, приблизительно до р. Случ) и Подолу (средняя и южная части). Заселение территории началось ещё в эпоху палеолита. Среди найденных поселений одно из древнейших на Украине - возле с. Луки - Врублевецкой (300 тыс. лет). Известны 150 памятников трипольской культуры. В первой половине 1 тысячелетия нашей эры. здесь жила юго - западная группа восточных славян. Антские племена занимались земледелием (найден их земледельческий календарь, изображенный на ритуальной вазе). На протяжении веков на юге проживали уличи и тиверцы, на севере - волыняне и дулибы. По летописи, киевские князья Аскольд и Дир воевали (863 г.) с уличами, которые не хотели им подчиняться. В 1199 г. все земли вошли в Галицко - Волынское княжество. В 12 - 13 веках были достаточно экономически развиты. Города - крепости с гарнизонами княжеских войск предохраняли от печенегов и половцев Юго - Западную Русь. В 1241 г. на Подолье вторглись монголо - татары, уничтожили его. Край поделили на округа с атаманами во главе.
В 60 - х гг. 14в. его прибирает к рукам Литовское княжество. Строятся и укрепляются крепости, развиваются ремесла и торговля. В начале 15в. оживает торговый путь со Львова к Черному морю через Каменец- Подольский. За право владеть богатыми землями боролись и литовцы, и поляки. Захватив западное Подолье, поляки в 1434 г. создали воеводство с центром в Каменце- Подольском. Борьба против угнетателей продолжалась: в начале 1653 г. местное воинство впервые, а в 1655 г. вторично очистило край от польской армии. Население прославилось участием в национально- освободительной войне под руководством Б. Хмельницкого. По Андрушевскому соглашению (1667 г.) Подолье осталось за Польшей. С 1672 г. территория 27 лет была во власти татаро- турецких орд. В 1699 г. (Карловский трактат)- возвращена Польше. После воссоединения Правобережной Украины с Левобережной властью России образована Подольская губерния (1795 г.).
Как видно из истории, Хмельниччина имеет богатое прошлое, уходящее вглубь веков и даже тысячелетий. Завоевывали территорию и татаро-монголы, и поляки, и литовцы, и турки, и снова она переходила Польше, велись жесточайшие освободительные войны. После последнего раздела Польши в 1793 году земли отошли России.
Село Войтовцы с 1793(96?) года принадлежало роду графов Морковых, пожаловано было Екатериной II за труды на благо отечества Аркадию Ивановичу Моркову, известному дипломату тех времен. Вернее, пожалован был город Летичев с прилегающими к нему землями. В Войтовцах было любимое имение графа и его наследников - его племянника (Аркадия Ираклиевича), затем сыновей Аркадия Ираклиевича (Михаила и Николая). Во дворе церкви св.Варвары в селе Войтовцы похоронен Михаил Аркадьевич Морков(в 1901году), затем имением владел его брат граф Николай Аркадьевич Морков. Николай Аркадьевич имел виллу в Ницце, Франция, где он с семьей проживал зимой, а летом жил в своем имении Войтовцы. Морковы были просвященными, европейского склада, людьми, во Франции Николай Аркадьевич имел автомобиль и аэроплан. Должно быть, и хозяйствование в принадлежащих им землях вели достойно.
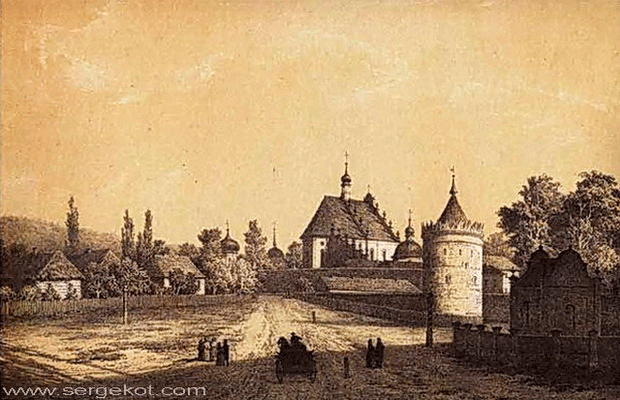 На картинке вид Летичева 1871-1873 г.г. А вот такую информацию удалось почерпнуть из книги, содержащей сведения о всех населенных пунктах Подолья конца 19-го века « Труды Подольского епархиального ист.-стат. комитета под редакцией Е. СецинскогоВ» выпуск 9 1899г.
На картинке вид Летичева 1871-1873 г.г. А вот такую информацию удалось почерпнуть из книги, содержащей сведения о всех населенных пунктах Подолья конца 19-го века « Труды Подольского епархиального ист.-стат. комитета под редакцией Е. СецинскогоВ» выпуск 9 1899г.
" Войтовцы с. - находится в 9 вер. на ю.-в. от уездн. города Летичева; ближайшая к нему ж.-д. ст. «Комаровцы» в 18 вер. на ю. Климат местности здоровый; почва - черноземная. Прихожан в В. 616 муж. и 549 ж.; в приписной к В. дер. Бохнах 235 м. и 216 ж. Все они - крестьяне-малороссы, главное занятие которых - земледелие. Церковь в В. построена в 1820 году бывшим помещиком Графом Аркадием Морковым; она каменная, однокупольная с такою же при ней колокольнею. Ограда вокруг церкви кирпичная. Освящена церковь в честь святой великомуч. Варвары. Земли при этой церкви: усад. 3 дес. 953 с., пах. 31 д. 419 с., сенок. 26д. 177 с., на сенок. Есть около 3 дес. леса. Дом для свящ. ветхий, а для псал. еще довольно прочный. Ц.-пр. школа в В. открыта в 1891 году; с 1893 года она помещается в особом школьном здании. В д. Бохнах школа грамоты, особого помещения для нее нет." На фото - то, что осталось от усадьбы графов Морковых.
 К сожалению, нам не известно ничего о предках Устина Антоновича и Марфы Антоновны. Были ли они крепостными крестьянами графов Морковых или переселились в Войтовцы после отмены крепостного права (1861г.). Известно лишь, что в начале 20-го века почти половина населения села Войтовцы (ныне Грушковцы) носила фамилию Шрубковские. Возможны два варианта столь большого распространения этой фамилии в одном селе. Либо у всех ее носителей были общие предки, либо получили фамилию переселенцы из расположенного неподалеку села Шрубков. И тот, и другой вариант может быть верным - село Шрубков было пожаловано в 1830 году начальнику гарнизона полковнику Шрубковскому за его вклад в подавлении польского восстания на этой земле, и названо в его честь. Так что, фамилия существовала в тех краях и в начале 19-го века. А когда эту фамилию начали носить предки Устина Антоновича, до или после отмены крепостного права (1861год) - неизвестно. Если же предки наших Шрубковских не были крепостными, а были наемными работниками, то, возможно, принесли свою фамилию из Летичева, где много было жителей польского происхождения.
К сожалению, нам не известно ничего о предках Устина Антоновича и Марфы Антоновны. Были ли они крепостными крестьянами графов Морковых или переселились в Войтовцы после отмены крепостного права (1861г.). Известно лишь, что в начале 20-го века почти половина населения села Войтовцы (ныне Грушковцы) носила фамилию Шрубковские. Возможны два варианта столь большого распространения этой фамилии в одном селе. Либо у всех ее носителей были общие предки, либо получили фамилию переселенцы из расположенного неподалеку села Шрубков. И тот, и другой вариант может быть верным - село Шрубков было пожаловано в 1830 году начальнику гарнизона полковнику Шрубковскому за его вклад в подавлении польского восстания на этой земле, и названо в его честь. Так что, фамилия существовала в тех краях и в начале 19-го века. А когда эту фамилию начали носить предки Устина Антоновича, до или после отмены крепостного права (1861год) - неизвестно. Если же предки наших Шрубковских не были крепостными, а были наемными работниками, то, возможно, принесли свою фамилию из Летичева, где много было жителей польского происхождения.
Устин Антонович ( 1891г. - 2 сентября 1967г.) и Марфа Антоновна (1892г. - 25 марта 1972г.) создали семью в начале 10-х годов 20-го века. Молодой семье довелось пережить все потрясения, обрушившиеся на территорию их проживания - Первую Мировую Войну(1914г.), окупацию австро-венграми, революционные события, гражданскую войну. Советская власть установилась окончательно в тех местах в 1920 году.
 До недавних пор еще в сохранности было первое семейное гнездо Шрубковских в Войтовцах(Грушковцах)(дом, конечно, был перестроен новыми хозяевами, но двор, участок, прилегающие к дому территории были узнаваемыми). Вот, что вспоминал о доме своего детства старший сын Владимир Устинович (1915 года рождения) - дом был небольшой, глинянный, ежегодно мать замазывала потрескавшиеся за зиму стены, белила их. Большое место внутри дома занимала печь, которая и для приготовления пищи для большой семьи служила, и для отопления помещения в холодную пору, и для мытья детей (печь протапливалась, грелась вода, а детишек по очереди отправляли пропариваться в чуть остывашее "чрево" печки, после такой "парной" все сияли чистотой). Так что печь в хозяйстве была незаменимым помощником. Рядом с домом был овраг, зимой дети катались на его склонах на санках. На краю оврага стояло большое дерево, которое и сейчас сохранилось, на его ветви привязывали веревку, служившую детям качелями. На картинке украинская хата - возможно,именно таким было жилье и у семьи Шрубковских.
До недавних пор еще в сохранности было первое семейное гнездо Шрубковских в Войтовцах(Грушковцах)(дом, конечно, был перестроен новыми хозяевами, но двор, участок, прилегающие к дому территории были узнаваемыми). Вот, что вспоминал о доме своего детства старший сын Владимир Устинович (1915 года рождения) - дом был небольшой, глинянный, ежегодно мать замазывала потрескавшиеся за зиму стены, белила их. Большое место внутри дома занимала печь, которая и для приготовления пищи для большой семьи служила, и для отопления помещения в холодную пору, и для мытья детей (печь протапливалась, грелась вода, а детишек по очереди отправляли пропариваться в чуть остывашее "чрево" печки, после такой "парной" все сияли чистотой). Так что печь в хозяйстве была незаменимым помощником. Рядом с домом был овраг, зимой дети катались на его склонах на санках. На краю оврага стояло большое дерево, которое и сейчас сохранилось, на его ветви привязывали веревку, служившую детям качелями. На картинке украинская хата - возможно,именно таким было жилье и у семьи Шрубковских.
Не все рожденные Марфой Антоновной детки выжили, выросли в семье шестеро детей: четверо сыновей - Владимир (1915 г.р.), Василий (1920 г.р.), Сергей (1924? г.р.), Андрей (1929 г.р.) и две дочери - Надежда (1918? г.р.), Валентина (1933 г.р.). Все дети, кроме последней дочери Валентины были рождены в Войтовцах.
Жили как все селяне, имели свой надел, работали и на хозяев имения, держали личное хозяйство - выращивали овощи на огороде, имели птицу, скот. В хате и на столе - было не густо. После гражданской войны, установления на Украине советской власти, первых жестких мер по изъятию у крестьян излишков хлеба в 1920-21 годов, породивших недовольство населения, наступили более - менее стабильные времена. Землю крестьянам давали в аренду по указу от 22.11.1922 года, годы НЭПа позволили имеющим свое хозяйство нормально содержать свои большие семьи. Но к концу 20-х годов ситуация изменилась - крестьян стали заставлять вступать в колхозы, пошла волна раскулачиваний, НЭП прекратил существование. Начались крестьянские волнения, на Украине зафиксированы сотни терактов против представителей власти в то время. После первой волны коллективизации и временного послабления (когда разрешалось выйти из колхоза и заниматься единоличным хозяйствованием), в 1931 году началась новая волна объединения единоличников в общие хозяйства. Теперь самая распространенная форма протеста крестьян против принудительного вступления в колхозы сводилась к тому, что крестьяне стали резать домашний скот, не желая отдавать его властям. Это явление приобрело ошеломляющие масштабы: между 1928 и 1932 Украина потеряла около половины поголовья скота.
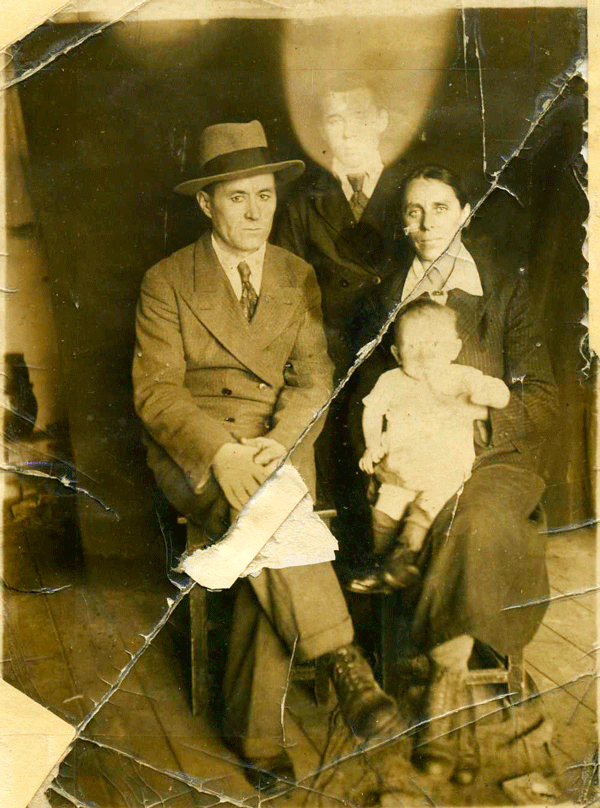 В том числе забивали и волов, которые использовались при пахоте. В результате, сильно сократились посевные площади (пахать было не на чем, тракторов еще почти не было), урожай собрать не успели, а то, что собрали, отбирали полностью на продналог. Многие крестьяне бежали из колхозов и искали работу в городах. Только через несколько лет, когда промышленность дала колхозам достаточно тракторов и с/х техники, начался подъем сельского хозяйства и благодарная черноземная украинская земля ответила высокими урожаями. А в то время конца 20-х - начала 30-х годов жизнь селян была большим испытанием.
В том числе забивали и волов, которые использовались при пахоте. В результате, сильно сократились посевные площади (пахать было не на чем, тракторов еще почти не было), урожай собрать не успели, а то, что собрали, отбирали полностью на продналог. Многие крестьяне бежали из колхозов и искали работу в городах. Только через несколько лет, когда промышленность дала колхозам достаточно тракторов и с/х техники, начался подъем сельского хозяйства и благодарная черноземная украинская земля ответила высокими урожаями. А в то время конца 20-х - начала 30-х годов жизнь селян была большим испытанием.
 Первым "вылетел из гнезда" старший сын Владимир, главный помощник родителей во всех хозяйственных делах. Когда ему было лет 14 (1929 год) в гости приехал родственник из города (возможно, Летичева). Рассказывал о городской жизни, об учебных заведениях, о перспективе для молодежи. Обратил внимание на любознательного и умелого паренька, почувствовал в нем тягу к знаниям и предложил родителям отпустить подростка с ним в город. Конечно, и отец и мать были против, но Владимир "загорелся" этой мечтой и упросил родителей отпустить его в новую жизнь. Так он стал городским жителем, поступил в ремесленное училище, усердно учился, жил в общежитии, к положенной стипендии имел прибавку - подрабатывал в различных мастерских города.
Первым "вылетел из гнезда" старший сын Владимир, главный помощник родителей во всех хозяйственных делах. Когда ему было лет 14 (1929 год) в гости приехал родственник из города (возможно, Летичева). Рассказывал о городской жизни, об учебных заведениях, о перспективе для молодежи. Обратил внимание на любознательного и умелого паренька, почувствовал в нем тягу к знаниям и предложил родителям отпустить подростка с ним в город. Конечно, и отец и мать были против, но Владимир "загорелся" этой мечтой и упросил родителей отпустить его в новую жизнь. Так он стал городским жителем, поступил в ремесленное училище, усердно учился, жил в общежитии, к положенной стипендии имел прибавку - подрабатывал в различных мастерских города.
Каждый приезд старшего сына был в Войтовцах большим событием. Особенно ждала брата сестра Надежда, с которой Владимир был очень дружен с малолетства. Надежда была главной помощницей матери по уходу за младшими детьми, приглядывала дома за малышами пока мать работала. Старший брат был ей особенно дорог, и он признавался в преклонном возрасте, что часто сестра являлась к нему в снах.
 Вспоминал Владимир Устинович и брата Василия в детстве. Рассказывал, как приехал в Войтовцы и на дороге к дому повстречал Василия, еще мальчика, который поначалу даже не признал в приближающемся молодом человеке родного брата. Позже у братьев установились доверительные отношения, Василий часто делился своими сокровенными мыслями именно с Владимиром, в письмах или при нечастых встречах. К сожалению, в нашем архиве нет детских фотографий братьев и сестер Шрубковских, всего несколько фотографий (родителей, Владимира, Василия в пионерском лагере) - довоенного периода, остальные сделаны после войны (после 1945 года).
Вспоминал Владимир Устинович и брата Василия в детстве. Рассказывал, как приехал в Войтовцы и на дороге к дому повстречал Василия, еще мальчика, который поначалу даже не признал в приближающемся молодом человеке родного брата. Позже у братьев установились доверительные отношения, Василий часто делился своими сокровенными мыслями именно с Владимиром, в письмах или при нечастых встречах. К сожалению, в нашем архиве нет детских фотографий братьев и сестер Шрубковских, всего несколько фотографий (родителей, Владимира, Василия в пионерском лагере) - довоенного периода, остальные сделаны после войны (после 1945 года).
"В начале 1930-х годов из украинского села был изъят по государственным заготовкам весь хлеб. Там, где не находили хлеба, у должников по хлебозаготовке в порядке "натуральных штрафов" изымали продукты питания. Лишенные продовольствия, крестьянские семьи не могли дожить до нового урожая. В начале 1932 года голод распространился по всей Украине и Кубани. Массовые масштабы смерть от голода приняла в начале марта 1933 года." Миллионы погибших от голода, тысячи случаев людоедства, сотни тысяч переселенцев, большое количество осужденных по статье о "трех колосках" (за горсть зерна, подобранного на колхозном поле, матерям голодных детей грозили немалые сроки) - такова цена сталинской политики, объяснявшей нехватку продовольствия саботажем крестьян и происками кулаков. Лишь в феврале 1933 года, когда стало понятно, что на селе нет зерна на приближающуюся посевную, правительство выделило Украине и Северному Кавказу семенную ссуду. Голодные крестьяне за общественную похлебку в поле начали посевную. Голод удалось ликвидировать только к началу 1934 года.
В начале 30-х годов (Владимир Устинович связывал отъезд из села с наступающим голодомором) семья Шрубковских сорвалась с насиженного места за уехавшими раньше родственниками Устина Антоновича. Покинули родные Войтовцы, поехали в Сталино (нынешний Донецк), в промышленный центр, где нужны были рабочие руки. Как любой шахтерский город Сталино занимал значительную территорию с центральной частью (как в народе говорили, "Городом") и примыкающими к центру шахтерскими поселками, расположенными в непосредственной близости от шахт. Разница в архитектуре и условиях проживания населения в центре и в рабочих поселках была огромной. В поселках шахтеров в лучшем случае жильем служили квартиры в 2-4-х квартирных одноэтажных домах, в худшем - так называемые в народе "нахаловки", самовольно застроенные рабочими убогие жилища, много было бараков. Судя по документам, оставшимся в архиве Василия Устиновича, в 1941 году семья проживала в Сталино, пос. Рутченково, ул Урицкого, д. 12/4.
Старший сын Владимир тоже переехал в Сталино, начал работать на шахте специалистом по ремонту оборудования, но жил отдельно от семьи, в общежитии на другом конце города. Работал на шахте и Устин Антонович. Зарплата шахтеров была довольно высокой, условия труда улучшались с каждым годом - на поверхности шахт предусматривалось обязательное строительство специальных умывален и бань с душами, гардеробных для хранения одежды, сушилок, медпунктов и т. д.
Город рос бурными темпами, до 1940 года центральные районы города застраиваются многоквартирными жилыми домами, появляются объекты культурного назначения самой современной архитектуры(Горный институт, Оперный театр, административные здания, объекты здравоохранения, школы, детские сады, началось строительство крупнейшей библиотеки им Крупской). В каждом рабочем поселке был шахтерский клуб, который нес в народные массы культуру, пропагандировал знания. Население города в 1937 г. составило 246 тысяч человек, к 1940 г. - свыше 500 тысяч. По численности населения город занял 5-е место в УССР и 12-е в СССР"
 В 1933 году в семье родилась дочь Валентина, старшему сыну в то время было уже 18 лет. Подрастающему поколению городская жизнь нравилась. В школе учились прилежно, посещали шахтерский клуб, библиотеку, становились пионерами, вступали в комсомол. Сохранилась фотографии 1936-1938 года, на которой молодой Василий Устинович в пионерлагере в Велико-Анадольском лесу, возможно, в качестве пионервожатого (хотя его взрослость на этих снимках может объясняться тем, что фактически он был на 2 года старше). Известно, что Василий Устинович начал свою трудовую деятельность 10 мая 1938 года в качестве электрослесаря Шахты –31 (то есть, в 16 лет по паспорту).
В 1933 году в семье родилась дочь Валентина, старшему сыну в то время было уже 18 лет. Подрастающему поколению городская жизнь нравилась. В школе учились прилежно, посещали шахтерский клуб, библиотеку, становились пионерами, вступали в комсомол. Сохранилась фотографии 1936-1938 года, на которой молодой Василий Устинович в пионерлагере в Велико-Анадольском лесу, возможно, в качестве пионервожатого (хотя его взрослость на этих снимках может объясняться тем, что фактически он был на 2 года старше). Известно, что Василий Устинович начал свою трудовую деятельность 10 мая 1938 года в качестве электрослесаря Шахты –31 (то есть, в 16 лет по паспорту).
Надежда в довоенные годы тоже уже была взрослым самостоятельным человеком. Работала, вышла замуж, жила с мужем отдельно от семьи Шрубковских. Владимир отслужил в армии, год проучился в медицинском институте (а вот до службы в армии или после того, не припомним). Рассказывал Владимир Устинович, что когда служил в армии и получал письма от родных, то понял по письмам подростка Василия его анти-сталинские настроения, и предостерегал младшего брата от необдуманных поступков.
"В конце 30-х годов по Украине прокатились несколько волн больших репрессий. Жестоко были подавлены стремления украинизировать общество, которые поначалу поощрялись Сталиным, поскольку создавали иллюзию невмешательства Москвы в жизнь украинцев и позволяли все страгические ошибки списывать на местное руководство. Потом дело дошло до военных и были уничтожены лучшие командиры размещенных на территории Украины армий. Был вычищен и партийный аппарат, а самое главное, очень много среди репрессированных было простых рабочих."
 Семью Шрубковских репрессии в то время не коснулись, но позже, случился неприятный инцендент, который обеспокоил всех. Сын Василий с приятелем, написали письмо на имя Сталина, оскорбительное и хулиганское, в общем-то, но отправлять его и не собирались, так, выплеснули недовольство на бумаге. Письмо неосмотрительно не уничтожили, Василий положил исписанный листок в книгу. Книга принадлежала двоюродной сестре Валентине. И вот однажды, когда Василий Устинович был на работе, родственница, проходя мимо их дома, попросила Марфу Антоновну вернуть ей эту самую книгу, мол, обещала дать почитать своему другу. Так книга с письмом попала к человеку, служившему в НКВД. Поначалу никаких неприятностей не последовало, и все успокоились. Но, видимо, в число неблагонадежных Василий Устинович попал именно тогда. А, возможно, и письма к Владимиру в армию были кем-то прочитаны, или приятель поделился с кем-то о написанном Сталину письме.
Семью Шрубковских репрессии в то время не коснулись, но позже, случился неприятный инцендент, который обеспокоил всех. Сын Василий с приятелем, написали письмо на имя Сталина, оскорбительное и хулиганское, в общем-то, но отправлять его и не собирались, так, выплеснули недовольство на бумаге. Письмо неосмотрительно не уничтожили, Василий положил исписанный листок в книгу. Книга принадлежала двоюродной сестре Валентине. И вот однажды, когда Василий Устинович был на работе, родственница, проходя мимо их дома, попросила Марфу Антоновну вернуть ей эту самую книгу, мол, обещала дать почитать своему другу. Так книга с письмом попала к человеку, служившему в НКВД. Поначалу никаких неприятностей не последовало, и все успокоились. Но, видимо, в число неблагонадежных Василий Устинович попал именно тогда. А, возможно, и письма к Владимиру в армию были кем-то прочитаны, или приятель поделился с кем-то о написанном Сталину письме.
Ранним утром 22 июня 1941 г. мирная жизнь осталась в прошлом. Фашистская Германия без объявления войны нарушила государственную границу и вторглась на территорию СССР. " В первые же дни войны в соответствии с постановлением СНК СССР от 24 июня 1941 г. в г. Сталино было создано два истребительных батальона для борьбы с диверсантами-парашютистами. В состав батальонов входило 1000 человек В июле 1941 г. в городе было создано 6 специальных отрядов по уничтожению танков. Эти формирования большей частью влились в состав 383-й стрелковой дивизии, которая по решению Государственного Комитета Обороны в августе 1941 года в спешном порядке формировалась в городе Сталино, главным образом из шахтеров - жителей областного центра. В строительстве двух противотанковых рвов и различных военно-инженерных объектов, протянувшихся от реки Самары до Азовского моря, приняло участие более 150 тысяч человек, в основном из Сталино."
 Первые месяцы войны стали для семьи Шрубковских трагичными вдвое. 22 июля 1941 года (эта дата стоит в официальной справке, а по записям о местах работы Василия Устиновича можно понять, что это случилось 22 июня) был арестован сын Василий, вестей о его судьбе семья не имела несколько лет. Сейчас уже известно, что в Донецке, как и в других близких к фронту городах с первых дней войны НКВД произвело чистку, опасаясь оставлять на свободе неблагонадежных, по мнению органов, лиц. Люди шли в военкомат по повестке, а попадали в городские тюрьмы. Тюрьмы были переполнены, там и до войны содержались и политические, и уголовники. Начались расстрелы - спешное приведение в исполнение приговоров врагам народа. На новых заключенных порой даже дел не успевали заводить. Поначалу расстрелянных вывозили на огороженную территорию - Рутченское поле (раскопки начали проводить в этом месте не так давно), с приближением к городу немцев братской могилой для "врагов народа" стала вырытая во дворе тюрьмы яма.
Первые месяцы войны стали для семьи Шрубковских трагичными вдвое. 22 июля 1941 года (эта дата стоит в официальной справке, а по записям о местах работы Василия Устиновича можно понять, что это случилось 22 июня) был арестован сын Василий, вестей о его судьбе семья не имела несколько лет. Сейчас уже известно, что в Донецке, как и в других близких к фронту городах с первых дней войны НКВД произвело чистку, опасаясь оставлять на свободе неблагонадежных, по мнению органов, лиц. Люди шли в военкомат по повестке, а попадали в городские тюрьмы. Тюрьмы были переполнены, там и до войны содержались и политические, и уголовники. Начались расстрелы - спешное приведение в исполнение приговоров врагам народа. На новых заключенных порой даже дел не успевали заводить. Поначалу расстрелянных вывозили на огороженную территорию - Рутченское поле (раскопки начали проводить в этом месте не так давно), с приближением к городу немцев братской могилой для "врагов народа" стала вырытая во дворе тюрьмы яма.
Василию Устиновичу, можно сказать, повезло, он попал в число эвакуированных заключенных (известно количество заключенных Донецка, прибывших в Красноярск - 1080, такие же эшелоны, видимо, отправлялись и на север, а может быть туда этапировалась небольшая группа заключенных), без суда и следствия вывезли его в Печорский край. Только через полтора года(!) после ареста ему был вынесен приговор по ст.17-58-8 УК РСФСР, наказание - 8 лет лишения свободы. Освобожден из под стражи 25 декабря 1950 года, судимость снята 17 августа 1959 года, реабилитирован в 1992 году уже после смерти. Уголовное дело, содержашее истинную причину ареста, так и не удалось найти.
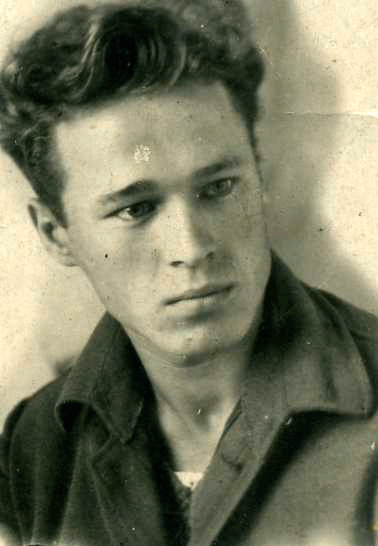 Старший сын Владимир был мобилизован. Возможно, попал в состав 383-й стрелковой дивизии (состоящей в основном из шахтеров Сталино), которая влилась позже в состав 18-й армии Южного фронта и заняла на дальних подступах к Сталино оборонительный рубеж - Гришино-Солнцево-Трудовой. Печальна судьба этой дивизии.
Пишут, что из 11650-ти человек, к 25-му октября (город Сталино оставили 21-го), в дивизии насчитывалось 7,5 тысячи дезертиров и еще 1 тысяча пропавших «без вести». К дезертирам относили и тех, кто сдался в плен, и тех, кто не смог выйти из окружения и отступить с основными частями армии вглубь страны, а, сложив оружие и переодевшись в гражданскую одежду, вернулся в оккупированный город к родным.
Старший сын Владимир был мобилизован. Возможно, попал в состав 383-й стрелковой дивизии (состоящей в основном из шахтеров Сталино), которая влилась позже в состав 18-й армии Южного фронта и заняла на дальних подступах к Сталино оборонительный рубеж - Гришино-Солнцево-Трудовой. Печальна судьба этой дивизии.
Пишут, что из 11650-ти человек, к 25-му октября (город Сталино оставили 21-го), в дивизии насчитывалось 7,5 тысячи дезертиров и еще 1 тысяча пропавших «без вести». К дезертирам относили и тех, кто сдался в плен, и тех, кто не смог выйти из окружения и отступить с основными частями армии вглубь страны, а, сложив оружие и переодевшись в гражданскую одежду, вернулся в оккупированный город к родным.
Устин Антонович с сыном Сергеем (ему тогда было лет 17-ть) были мобилизованы на строительство противотанковых рвов, работали вдали от дома, о их судьбе не было известно несколько месяцев. Фотография молодого Сергея, возможно, времен войны.
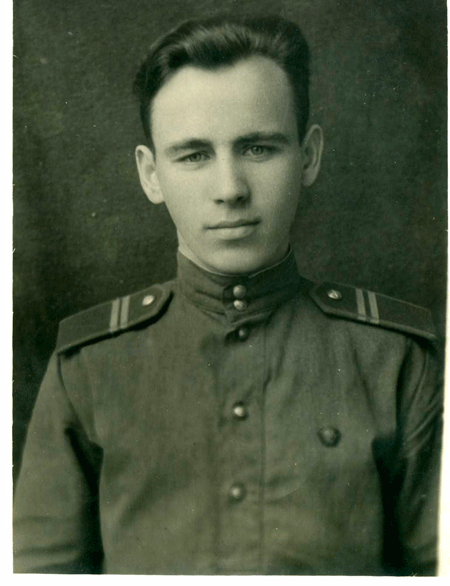 Марфа Антоновна с младшими 12-ти летним Андреем и 4-х летней Валентиной оставалась в Сталино. Переселилась в родительский дом и дочь Надежда с маленьким сыном Валентином, муж которой был также мобилизован. Марфа Антоновна, Надежда и даже Андрей, как и все население города, работали на рытье противотанковых рвов неподалеку поселка, детей брали с собой. На фотографиях Андрей и Валентина (снимки послевоенного периода).
Марфа Антоновна с младшими 12-ти летним Андреем и 4-х летней Валентиной оставалась в Сталино. Переселилась в родительский дом и дочь Надежда с маленьким сыном Валентином, муж которой был также мобилизован. Марфа Антоновна, Надежда и даже Андрей, как и все население города, работали на рытье противотанковых рвов неподалеку поселка, детей брали с собой. На фотографиях Андрей и Валентина (снимки послевоенного периода).
 Немцы Сталино почти не бомбили, предполагали захватить неповрежденные промышленные предприятия и шахты, чтобы использовать их для нужд Германии. Позже, при боях на границе города обстреливались рабочие поселки, женщины с детьми прятались в вырытых в огороде за домом яме.
Немцы Сталино почти не бомбили, предполагали захватить неповрежденные промышленные предприятия и шахты, чтобы использовать их для нужд Германии. Позже, при боях на границе города обстреливались рабочие поселки, женщины с детьми прятались в вырытых в огороде за домом яме.
Первые месяцы войны никто не помышлял о сдаче г.Сталино врагу. Южная армия, шахтерские дивизии вели бои далеко от города, строились оборонительные рвы, все предприятия города спешно перешли на военную продукцию, отправляя на фронт прямо из цехов гранаты, противотанковые ежи и пр. Шахтеров и металлургов поначалу старались не призывать в армию, до октября 1941 года многие трудились на своих рабочих местах. "На фронт из Сталинской области в 1941 году было призвано всего 68 518 человек, из которых 61 245 человека в октябре (ЦАМО РФ, Фонд 161, оп.14161, д. 17, стр. 324), когда немцы уже переступили границы области."
"В условиях наступления немецких войск ЦК ВКП(б) и советское правительство дали указание местным органам власти и парторганизациям уничтожать все, что не удалось эвакуировать в восточные районы СССР: оборудование заводов, фабрик, колхозную технику, инвентарь, жечь хлеб, урожай." В октябре 1941 г., когда стало понятно, что город Сталино не удержать, началась подготовка шахт и заводов к взрывам, эвакуация оборудования и части населения. В первую очередь отправлялись семьи "элиты" (партийной, промышленной) и специалистов. Женам шахтеров, чьи мужья защищали город в составе 383 дивизии или не вернулись со строительства укреплений, деваться было некуда. В городе царил хаос, безвластие, мародерство. Негде было взять продовольствие, чтобы накормить детей. Женщины устроили, так называемые, "бабьи бунты", препятствуя уничтожению шахт (говорилось, что к этому их подталкивали сотни листовок, забрасываемых в Сталино немецкой агентурой). Но, все-таки, в основном все промышленные объекты были приведены в негодность, в том числе и водопровод, и электростанция.
26 октября 1941 года в Сталино вошли немцы. Существует много снимков, сделанных немецкими офицерами в оккупированном Сталино. На них запечатлен и вход частей в город со стороны рабочих поселков, и огромные колонны военнопленных (тогда часто немцы отдавали наших солдат местным жителям, если они приносили документ, что являются родственниками плененного солдата), и разрушенные заводы и шахты, и виды жилых построек рабочих поселков, и центра города, и населения. "Большое количество пленных для немцев уже перестало быть чем-то необычным, а вот громадное число гражданского населения мужского пола призывного возраста в городе - весьма настораживало. По некоторым данным немцам оставили 450 тысяч человек, насколько эти данные учитывают наплыв беженцев и дезертиров - судить трудно."

|

|

|

|
Оккупанты входили в шахтерские поселки, разглядывали неказистые дома с плотно закрытыми окнами (город как-будто вымер), расселялись по квартирам, выселяя хозяев. Дом, в котором жили Шрубковские, выбрали для постоя какого-то немецкого офицера. Женщинам было велено уходить. Надежда неплохо говорила по-немецки, осмелилась просить офицера позволить им с матерью и детьми остаться жить в огороде то ли в погребе, то ли в летней кухне. Женщины надеялись на возвращение мужчин и боялись растеряться. Офицер, услышав немецкую речь, разрешил им остаться. И позже относился по-человечески к хозяевам, велел своему повару давать семье кое-что из продуктов, Надежде помог устроиться на работу.
Началась жизнь на окупированной территории. В первый же день была создана городская управа, началась работа по восстановлению жизненно важных объектов: электростанции, водопровода, телефонной связи, хлебопекарен, мельниц."Немцы вернули городу название Юзов. Предполагали восстановить промышленность и шахты и сделать город промышленным центром для нужд немецкой армии. За войсками приехали представители концернов. Но увидев взорванные заводы и затопленные шахты от восстановления промышленности пришлось практически отказаться. Все что осталось нужного и ценного было вывезено в Германию. В том числе и культурные ценности, и украинский чернозем, вывозимый эшалонами. Но, тем не менее порядок в городе был установлен, возможность выживания жителям хоть минимальная была предоставлена. За работу платили советскими рублями, которые ходили все годы оккупации вместе с марками (10: 1)." Была объявлена всеобщая трудовая повинность, заработала биржа труда. Работающему населению выдавались карточки. Несколько шахт и часть металлургического завода все же удалось частично восстановить, на них работали и местные шахтеры и металлурги, и военнопленные из лагерей. Много открывалось и частных предприятий, которые давали работу тысячам жителей.
Вернулись домой отец и Сергей, а весной 1942 года неожиданно на пороге появился Владимир, которого в семье уже считали погибшим. Он попал в окружение, и их командир дал приказ разойтись и идти по домам (так рассказывал Владимир Устинович), поскольку практически все были украинские хлопцы из этих мест. Шел Владимир долго, сначала с другом-однополчанином, потом зашли в какое-то село, переоделись в гражданское, там познакомились с девушкой, которая тоже пробиралась на родину, и пошли втроем. Постоянно прятались, боялись всех, и немцев, и своих. Голодали, работали в селах на кого придется за еду и ночлег. Дошли до деревни друга, пожили немного у его родных, дальше шли вдвоем с Олей (так звали девушку), нашли и ее семью, расставались со слезами, договорились встретиться после войны. А вскоре и Владимир дошел до родительского дома. Когда открыл дверь, там была только мать, она его не узнала сразу, так изменился и похудел. Видимо, немцы уже покинули их дом, перебрались в центр города в комфортабельные квартиры многоэтажных домов. Зарегистрировался Владимир в комендатуре, немного набрался сил и начал работать, как и все кто хотел выжить в оккупации. Устин Антонович и Сергей тоже работали где придется.
"С первых же дней оккупации разворачивается широкая пропагандистская компания по привлечению на работу в Германию. Уже 15 февраля 1942 г. был отправлен первый транспорт в составе 1 тыс. человек. Всего же за годы оккупации из города было угнано 125 тыс. человек." В городе при таком большом количестве населения нехватка работы, а значит и средств к существованию, была большой проблемой. Поэтому сначала многие добровольно ехали в Германию "на заработки", поддавшись на пропаганду (открытки с цветущими украинскими девушками на немецкой земле, фильмы, рассказывающие о сытой и спокойной жизни переселенцев в "Великой Германии"). Не имея постоянной работы и поддавшись на агитацию, Владимир с братом Сергеем тоже были в числе добровольцев. Марфа Устиновна переживала за сыновей, особенно, за Сергея, но понимала, что дома им грозит не меньшая опасность. Братья получили «Трудовую книжку для иностранцев» (Arbeitsbuch Fur Auslander) - основной документ, регулировавший пребывание остарбайтера на территории рейха в период с 1942 по 1945 гг. Долго ехали по железной дороге, а когда прибыли на место, поняли, что обмануты. Их ждали обычные лагеря за колючей проволокой с бараками, с нарами в 2 этажа, со скудным питанием и многочасовой ежедневной работой.
Конечно, это был не лагерь военнопленных, хотя как раз в их лагере было несколько бараков, где жили военнопленные французы, англичане, и американцы. Но эти военнопленные не работали, жили довольно вольготно, получали письма и посылки с родины и были под защитой международного красного креста. По вечерам из женских бараков трудовиков в бараки иностранцев шли девушки, скрашивали им время, возвращались с консервами и галетами. Владимир и Сергей поселились рядом, у каждого было спальное место и тумбочка, так и прожили до окончания войны. Работать ходили куда направят. То на заводики, то в фермерские хозяйства, то в магазины. Владимир, имея "золотые руки" и смекалку, стал пытаться облегчить свою жизнь и жизнь брата. И к языкам имел способности, быстро освоил немецкий разговорный язык (говорит, писать не мог, а общался нормально). Как-то в лагере, услышав, что один охранник жалуется другому на неработающее радио, вызвался починить. Другому часы починил.
Причем, в большинстве случаев брался за дело, не зная, сумеет ли, но был очень терпелив и настойчив - механизмы в его руках оживали. Вскоре про него знали уже многие , в том числе и городские немцы, пользующиеся часто трудом лагерников. Одно время братья работали на какой-то небольшой то ли фабрике, то ли ферме, им выдавали пропуск, и они ежедневно уходили на работу и возвращались вечером в барак самостоятельно. Днем их кормили на рабочем месте, и гораздо сытнее, чем в лагере. Там Владимир тоже завел знакомства с немцами, помогал что-то налаживать, стал уже хорошим часовщиком, отовсюду часы на ремонт несли. В результате получил постоянный пропуск в город и на трудной, неблагодарной работе не использовался. Работал в мясной лавке и от хозяина получал хорошую добавку в виде колбасы, окорока или еще чего-нибудь мясного. Подкармливал брата, который очень тосковал по дому. Так и прожили до окончания войны на немецкой земле.

|

|

|

|
А родные жили почти 2 года в оккупированном городе, не имея информации об положении дел на фронтах, в тревоге за судьбы старших сыновей. "За «порядком» в Юзово следили карательные органы двух армий, 4 комендатуры, 2 карательных отряда, несколько особых команд и групп жандармерии, находившихся под руководством гестапо. Была введена система коллективной ответственности за «преступления против армии». За убийство немецкого военнослужащего расстрелу подлежало 100, за убийство полицейского - 10 местных жителей. С особым рвением нацисты охотились за коммунистами, комсомольцами и советскими активистами ". В какую-то из облав в лагерь, расположенный на стадионе, попал младший сын Шрубковских Андрей. Не имея денег для выкупа сына (такое практиковалось в отношении пленников, в первые месяцы выкуп составлял 5 тыс.рублей, позже сумма была внушительнее - 15 тыс.рублей), Марфа Антоновна совершила настоящий подвиг, упросив конвоиров разрешить свидание с сыном, выкрала его, переодев в женское платье.
Жители Донбасса пытались приспособиться к жизни "при немцах", но выжили далеко не все. В области было создано около 30 концентрационных лагерей, в Сталино их было пять. Военнопленные умирали от голода и холода, от непосильной работы в шахтах. Ежедневно только в лагере возле теперешнего ДК им. Ленина умирало до 70 человек. Огромную братскую могилу сделали из шахты 4-4 бис по проспекту Павших коммунаров, возле нее расстреливали и военнопленных, и мирных жителей. Всех евреев согнали в гетто на Белый карьер (в районе нынешнего цирка "Космос"), но вскоре гетто ликвидировали, а вместе с ним и евреев. По официальным данным в период оккупации в Сталино было истреблено 125 тысяч советских граждан. Захоронения тысяч людей на территории города сделали Сталино огромным кладбищем. Многие военнопленные, покоящиеся в донецкой земле до сих пор считаются пропавшими без вести.
Немцы жили в городе довольно спокойно. Подполье, остававшееся в городе для борьбы с оккупантами, было уничтожено в первые месяцы. Жители города должны были выполнять правила, установленные новой властью, работать на благо Германии, платить налоги и продовольственные оброки( те, кто имел хозяйство). Открылось несколько школ и технических училищ, столовые, магазины, рынки, ходили трамваи и троллейбусы. Центр города немцы сравнивали с городами Европы - многоэтажные здания, музыкально-драматический театр, в котором проходили спектакли (оперы, оперетты, балет) и концерты для немцев, больницы для раненных, офицерские и солдатские клубы, два борделя для солдат(сначала работали в них немки, потом начали набирать местных девушек, платили по 500 рублей в неделю). Летом кругом зелень, живописные парки, аттракционы, павильоны прохладительных напитков для солдат. Немецкий порядок и чистота. Осталось много фотоснимков городских пейзажей, сделанных немецкими офицерами и их воспоминаний о жизни в этом красивом городе.
Но "мирная" жизнь и для оккупантов, и для населения закончилась с приближением фронта в начале августа 1943 года. Начались авианалеты советской армии, бомбили центр города, шахты и заводы. Начиная с 2 сентября 1943 года, специальные немецкие отряды саперов объезжали город, обливали здания горючей жидкостью и поджигали, в том числе и с укрывавшимися в них мирными жителями. Тушить пожары было некому. Когда первые подразделения Советской Армии входили в город, он был объят пламенем.
Не осталось письменных воспоминаний о том, как семья Шрубковских пережила годы оккупации, как уцелела во время боев за освобождение города (немцы приказывали всем жителям уходить с немецкими войсками, люди прятались в погребах, сараях, дожидаясь советскую армию). Навсегда в глазах Устина Антоновича и, особенно, Марфы Антоновны поселилась тревога, нелегкие времена выпали на их долю. По сведениям, в разрушенном городе оставалось 175 тысяч человек. С первых же дней на освобожденной территории начался процесс восстановления, с войсками вернулись партийные и советские руководители, организовали работу по восстановлению коммуникаций, предприятий, жители разбирали завалы, отстраивали заново разрушенные здания. Жизнь в Сталино возвращалась в довоенную коллею, хотя до конца войны оставалось еще полтора года.
"В 1940-1950-е гг. Донбасс восстанавливала вся страна (Кемерово, Кузбасс, Ленинград, Чернигов, Ташкент). И, вместе со страной, плененные немцы. На шахты и в "горячие цеха" пришли тысячи женщин, заменив мужчин, погибших на фронтах войны К концу 1944 г. в Донецкой области уже работало 8 доменных и 24 мартеновских печи, 15 прокатных станов, 54 коксовые батареи. Восстановление хозяйства края осложнялось засухой 1946-1947 гг. В регионе вновь замаячил устрашающий призрак голода. Донбасс, в который раз, почти полностью обезлюдел. К началу 1950-х гг. отсутствие трудовых резервов в Донецком бассейне начало приобретать критический характер. В мае 1947 года Совмин СССР принял постановление об организационном наборе в Донецкую область молодежи из других регионов страны. Во исполнение этого постановления, в течение первой послевоенной пятилетки, в бассейн ежегодно направлялись от 20 до 50 тыс. юношей и девушек из Винницы, Киева, Полтавы, Сум, Воронежа, Курска, Орла, Пензы, Ярославля, др. Промышленность Донбасса оказалась, чуть ли не главным пунктом назначения государственных инвестиций СССР, включая репарации, поступающие из разгромленной фашистской Германии. Объем финансовых вливаний в экономику Донецкого края в этот период сравним с "планом Маршала" в Западной Европе. Деньги в регион буквально текли рекой. Причем, несмотря на издержки командно-административной системы, тратились они не только широко, но и с умом: прежде всего, на восстановление, но и на модернизацию производства. Как следствие, к 1950 году механизация процессов зарубки угля на донецких шахтах составила 97%, откатки - 95%, в металлургической промышленности мартеновские цеха освоили выпуск новых высококачественных марок сталей, прокатные - выпуск профилей проката. К концу 1940-х гг. из затопленных в войну шахт было откачено 650 млн. м.3 воды, в строй были введены 145 новых рудника. В регионе были построены 145 новые шахты, сооружены Мироновская и Славянская ГРЭС."
После окончания войны родители ждали возвращения сыновей Владимира и Сергея. Местечко в западной Германии, где братья жили и работали, было освобождено от фашистов союзниками, американцами. С каждым "трудовиком" из СССР беседовали, объясняли, что при возвращении на родину их могут подвергнуть репрессиям.
 Владимир Устинович, понимая, что его, как солдата советской армии, оставшегося на оккупированной территории, да имеющего арестованного брата, такие репрессии могут коснуться в первую очередь, решил не возвращаться домой. Он уже приспособился к западной жизни, переселился к знакомому немцу, работал, встретил девушку Хельгу(голландку), помогал ей и ее больной матери выжить в тяжелое время. А после смерти матери Хельга согласилась уехать из Германии с Владимиром на поиски лучшей жизни. Перебрались сначала во Францию, там у них родился сын Валентин.Какие-то благотворительные организации помогли переселиться в Америку. Только через несколько лет удалось с оказией отправить письмо и фотографии родным. Тогда Марфа Антоновна и Устин Антонович узнали о жизни старшего сына.
Владимир Устинович, понимая, что его, как солдата советской армии, оставшегося на оккупированной территории, да имеющего арестованного брата, такие репрессии могут коснуться в первую очередь, решил не возвращаться домой. Он уже приспособился к западной жизни, переселился к знакомому немцу, работал, встретил девушку Хельгу(голландку), помогал ей и ее больной матери выжить в тяжелое время. А после смерти матери Хельга согласилась уехать из Германии с Владимиром на поиски лучшей жизни. Перебрались сначала во Францию, там у них родился сын Валентин.Какие-то благотворительные организации помогли переселиться в Америку. Только через несколько лет удалось с оказией отправить письмо и фотографии родным. Тогда Марфа Антоновна и Устин Антонович узнали о жизни старшего сына.
 Владимир в Америке брался за любую работу. Брал кредиты на строительство дома и у государства, и у появившихся знакомых, и отдавал все раньше срока, чем даже заслужил прозвище «крейзи» (сам рассказывал свою историю). Но личная жизнь не сложилась, обида на жену жгла его всю жизнь. Став американкой, обзаведясь своим домом, знакомыми, Хельга стала очень плохо относиться к мужу, называла его сталинским выродком, недостойным ее, доводила до нервного расстройства. В конце концов они разошлись. Хельга с сыном остались в доме, а Владимир взял кредит и купил участок земли, где поселился в автофургоне, долго жил так, строя новый дом. Всю жизнь работал не покладая рук, мастером-часовщиком был замечательным. Увлекся психологией, заочно окончил какие-то курсы, получил лицензию и даже практиковал работу с семейными парами. Рассказывал, что позже встречал своих пациентов, помирившихся после его сеансов. Сын тоже отдалился и стал относиться к отцу с пренебрежением, хотя отец обеспечивал его полностью и оплачивал его образование.
Владимир в Америке брался за любую работу. Брал кредиты на строительство дома и у государства, и у появившихся знакомых, и отдавал все раньше срока, чем даже заслужил прозвище «крейзи» (сам рассказывал свою историю). Но личная жизнь не сложилась, обида на жену жгла его всю жизнь. Став американкой, обзаведясь своим домом, знакомыми, Хельга стала очень плохо относиться к мужу, называла его сталинским выродком, недостойным ее, доводила до нервного расстройства. В конце концов они разошлись. Хельга с сыном остались в доме, а Владимир взял кредит и купил участок земли, где поселился в автофургоне, долго жил так, строя новый дом. Всю жизнь работал не покладая рук, мастером-часовщиком был замечательным. Увлекся психологией, заочно окончил какие-то курсы, получил лицензию и даже практиковал работу с семейными парами. Рассказывал, что позже встречал своих пациентов, помирившихся после его сеансов. Сын тоже отдалился и стал относиться к отцу с пренебрежением, хотя отец обеспечивал его полностью и оплачивал его образование.
Сергей Устинович, несмотря на уговоры брата остаться в Европе, все же вернулся на родину. К счастью для него и его семьи, прямых репрессий не последовало, слишком много было таких же как он "возвращенцев". Но вряд ли не отразилось на его дальнейшей судьбе то, что он жил несколько лет в Германии, и то, что один брат отбывает срок по 58-й статье, и то, что другой брат не вернулся на родину и живет в Америке. Женился Сергей Устинович на бойкой веселой женщине Вере. Она лихо водила мотороллер, но не любила вести домашнее хозяйство. Жили на той же улице, что и родители. В семье появилось два сына Александр и Владимир. Когда дети выросли Сергей Устинович расстался с женой, переселился с сыновьями в дом родителей. На фотографиях - Сергей Устинович; на второй - с племянником Васей; на третьей - семья Шрубковских, справа стоит Устин Антонович, в центре Марфа Антоновна, в нижнем ряду Сергей Устинович с женой Верой; на четвертой - жена Сергея Устиновича - Вера и жена Василия Устиновича - Александра.
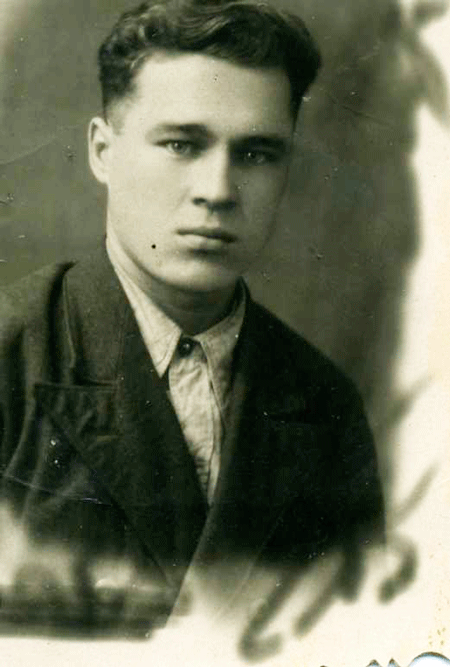
|
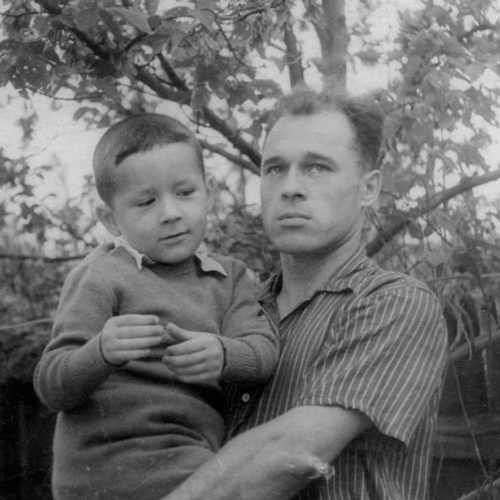
|

|

|
Андрей Устинович в 1948-1949 году отслужил в армии, в пограничных войсках. Присылал фотографии из города Ужгород родным в Донецк и брату Василию на север. Женился на доброй спокойной женщине Соне, в семье родилась дочь Людмила. Первое время жили на территории родителей, в постоенном во дворе небольшом домике. Потом отстроили свой дом, завели богатое хозяйство, гордились урожаями своего огорода. На фотографиях - Андрей Устинович в армии, Андрей Устинович в доме родителей, Марфа Антоновна с невестками Соней и Шурой.

|
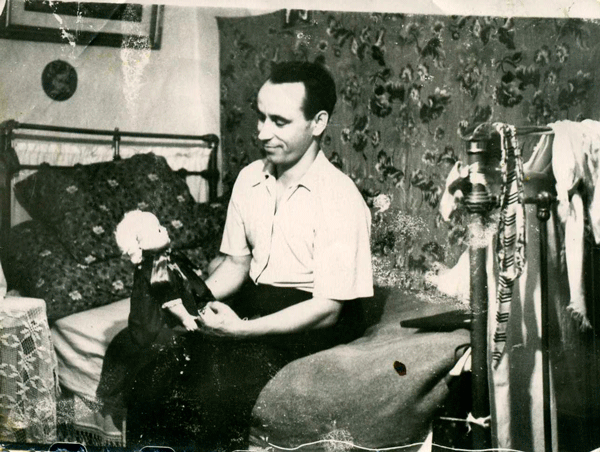
|

|
Старшая дочь Устина Антоновича и Марфы Антоновны Надежда Устиновна жила в Полтаве, приезжала к родителям с их старшими внуками - Валентином и Аллой (Алла родилась в Сталино в 1942 году). Алла, повзрослев, переехала на постоянное место жительства в Донецк, здесь и проживала до конца своих дней с сыном Евгением (семейная жизнь не сложилась ни у мамы, ни у сына), радовалась приезду в гости любимого внука Славика. Валентин с женой и двумя сыновьями несколько лет прожил на Дальнем Востоке. Старшего его сына Юру судьба обделила - в младенчестве он перенес какую-то инфекцию и остался глухим. Бабушка Надя забрала больного мальчика в Полтаву, вырастила в любви, хоть и сложно было с глухим, а соответственно, практически немым ребенком. Юру все родственники очень жалели, он погиб совсем молодым - набирал в карьере песок для стройки и не услышал как подъехал и начал разгружаться самосвал с песком, его засыпало, откопали только спустя несколько суток. Надежда Устиновна поддерживала тесные отношения с братом Василием. Не раз гостила в Воркуте, приезжала дважды и в Златоуст (Василий Устинович с женой перебрался на Урал в 1987 году), проводила брата в последний путь. Любила дядю Васю и Алла, тоже не раз навещала родных и на севере, и на Урале.

|
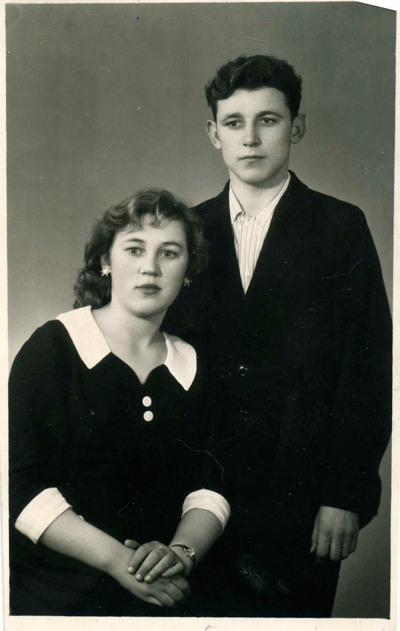
|
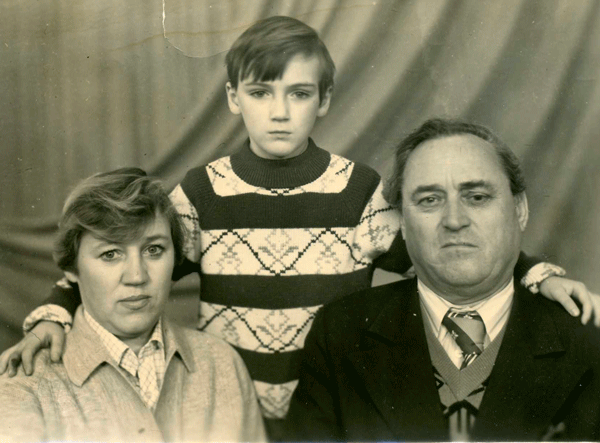
|
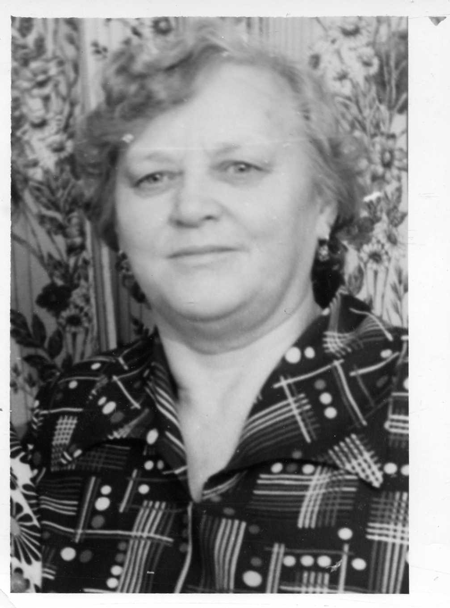
|
На фотографиях - Надежда Устиновна с подругой(справа), дети Надежды Устиновны Алла и Валентин, Алла с сыном Женей с Василием Устиновичем, Надежда Устиновна.
Младшая дочь Устина Антоновича и Марфы Антоновны - любимица всей семьи, Валентина Устиновна дольше всех детей была рядом с родителями. Вышла замуж в 1954 году за Анатолия Постнова. Родила деду и бабушке внучку Евгению. На фотографиях - Валентина Устиновна, семья Постновых, Валя с Устином Антоновичем, Устин Антонович с внучкой Женей и внукоим Васей.

|
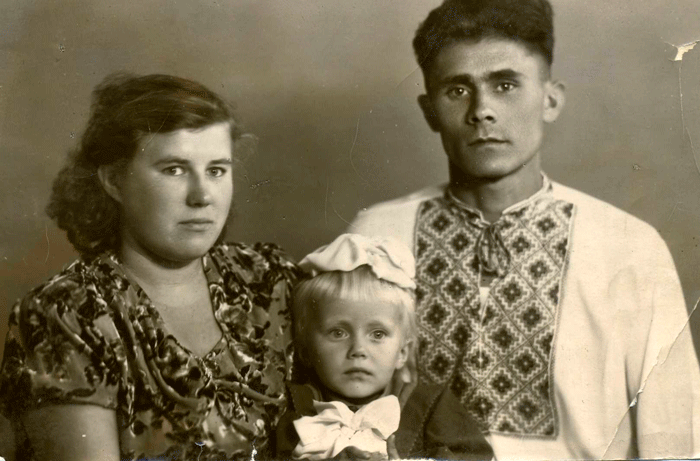
|
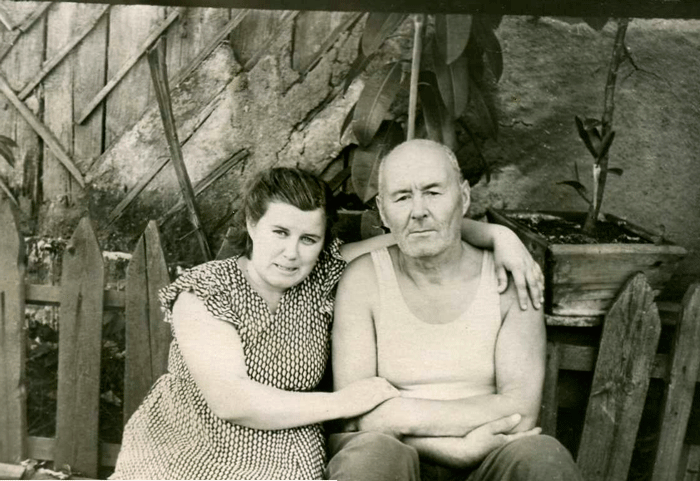
|

|
После освобождения Сталино пришла весточка от сына Василия Устиновича, который, отбывая наказание, жил и работал в Печорском крае. До 1945 года в лагере в Печоре на лесокомбинате, был учетчиком (заключенные лагеря вытягивали лес, сплавляемый по реке, обрабатывали его, выпускали продукцию - шпалы, доски, нары и прочее), с 1945 по 1950 содержался в одном из лагерей г. Воркуты, работал на шахте (в записях указано экономистом). Ниже приведена схема Печорского Лесокомбината, на территории которого жили и работали заключенные. Описание об условиях жизни и работы можно почитать в книге Л.Г.Мищенко "Пока я помню", глава "XXII Этап Франкфурт — Печора. Печорский лесокомбинат."" - ссылка здесь, надеюсь, актуальной будет.
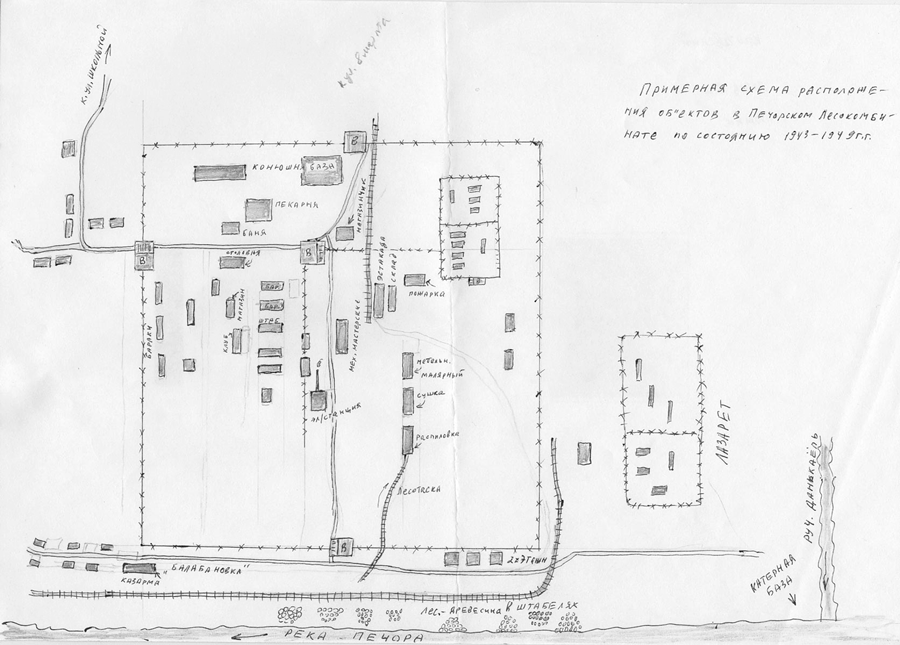 Его молодость, образованность и способности позволили выдержать такое трудное жизненное испытание, но никогда он не рассказывал о том периоде жизни. Знаем, что помогал ему врач из лазарета, подкармливал, давал книги читать, возил на операцию, когда надо было спасать один глаз. Как только стало возможно, на север родные начали отправлять посылки (как вспоминал Василий Устинович - селедку, видимо, засоленную, и сухофрукты), эта помощь была очень нужной в то, трудное для него, время. До освобождения (25 декабря 1950 года) в лагерь шли письма от родителей, братьев и сестер. Присылались фотографии с надписями "Любимому брату Василию". После освобождения Василий не вернулся на Украину, продолжил работать на шахте в Воркуте вольнонаемным (работал экономистом, горным мастером, нормировщиком, начальником планового отдела - продвижению по службе мешало прошлое, закончил в 1961 году центральный заочный монтажный техникум). В 1951 году в Воркуте встретил свою "половинку" - Александру Петровну (по первому мужу Носову, в девичестве Дуркину), стал отцом ее дочки Людмилы (1942 г.р.), а позже и общие дети появились - сын Василий( 1953 г.р.) и дочь Татьяна( 1957 г.р.). С удовольствием Василий Устинович общался с северной родней, ездили на Печору и сами радушно гостей принимали. К родным на Украину ездили часто (раз в два года, в основном), северные отпуска позволяли подолгу гостить у родителей.
Его молодость, образованность и способности позволили выдержать такое трудное жизненное испытание, но никогда он не рассказывал о том периоде жизни. Знаем, что помогал ему врач из лазарета, подкармливал, давал книги читать, возил на операцию, когда надо было спасать один глаз. Как только стало возможно, на север родные начали отправлять посылки (как вспоминал Василий Устинович - селедку, видимо, засоленную, и сухофрукты), эта помощь была очень нужной в то, трудное для него, время. До освобождения (25 декабря 1950 года) в лагерь шли письма от родителей, братьев и сестер. Присылались фотографии с надписями "Любимому брату Василию". После освобождения Василий не вернулся на Украину, продолжил работать на шахте в Воркуте вольнонаемным (работал экономистом, горным мастером, нормировщиком, начальником планового отдела - продвижению по службе мешало прошлое, закончил в 1961 году центральный заочный монтажный техникум). В 1951 году в Воркуте встретил свою "половинку" - Александру Петровну (по первому мужу Носову, в девичестве Дуркину), стал отцом ее дочки Людмилы (1942 г.р.), а позже и общие дети появились - сын Василий( 1953 г.р.) и дочь Татьяна( 1957 г.р.). С удовольствием Василий Устинович общался с северной родней, ездили на Печору и сами радушно гостей принимали. К родным на Украину ездили часто (раз в два года, в основном), северные отпуска позволяли подолгу гостить у родителей.

|

|
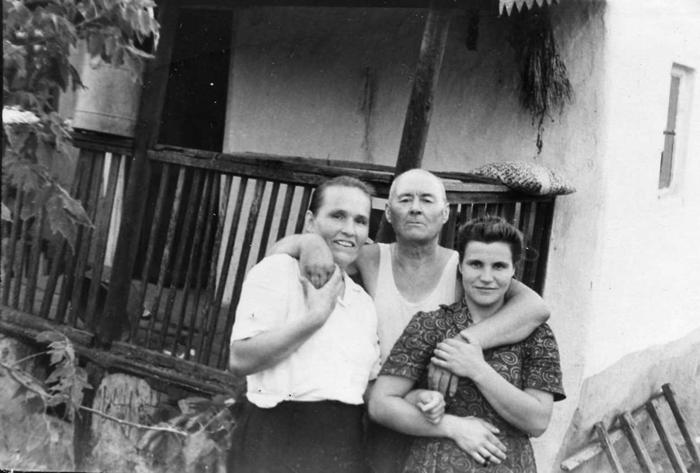
|

|
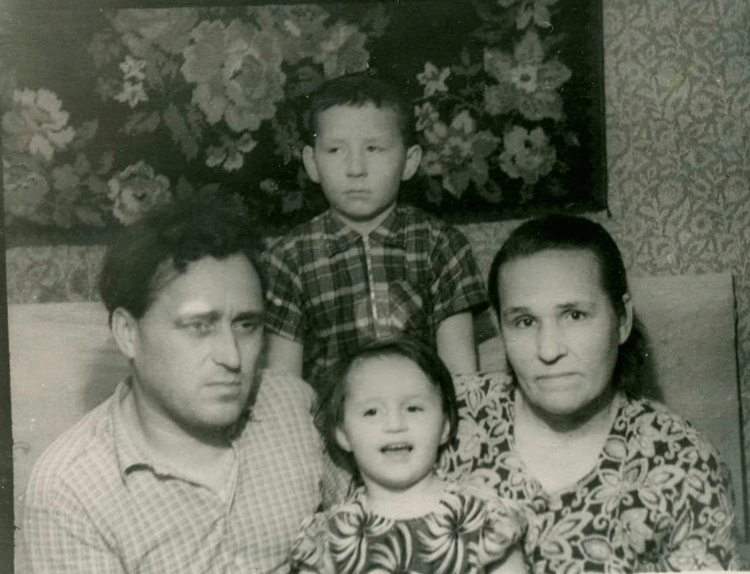
|
На фотографиях - Василий Устинович, на второй фотографии - похоже, первый приезд в Донецк с женой Александрой и Люсей, на ставке, третье фото - Устин Антонович с невестками Шурой и Соней. На последней Василий Устинович с женой и детьми.
Послевоенный Донецк (бывший Сталино) стал современным красивым зеленым городом. Много новых районов, бульваров, проспектов, парков. Но этот регион, имеющий мощные промышленные предприятия, сотни шахт вокруг города нельзя назвать экологически чистым. Несмотря на море зеленых насаждений, жители испытывают на себе все "прелести" промышленного города.
С послевоенных лет и до конца жизни Устин Антонович и Марфа Антоновна проживали по адресу Донецк, ул.Мирная д.6 кв.3. Это был типичный дом рабочего поселка на 4-х хозяев. К каждой квартире примыкал участок земли - двор с летней кухней и построенным хозяевами маленьким "гостевым" домиком, огород с грядками и фруктовыми деревьями. Удобства были в огороде, вода из колонки. Комнат было всего две, одна из них зимой служила кухней. Большое крыльцо выполняло роль терассы, можно было посидеть, отдохнуть после работы. Двор сторожил пес Мальчик. Именно в этом доме собирались дети и внуки по случаю приезда гостей с севера - Василия Устиновича с семьей. Тогда на лицах Марфы и Устина Шрубковских появлялись улыбки. На фотографиях - Марфа Антоновна в огороде, бабушка Марфа с внучкой Люсей, Устин Антонович с невесткой Шурой, танцы в Сталино (так написано на обороте).

|

|

|

|
Старшего сына Владимира родителям увидеть так и не довелось. В 2 сентября 1967 года не стало Устина Антоновича, Марфа Антоновна пережила мужа на 5 лет и скончалась 25 марта 1972 года. В их доме потом долго жил сын Сергей, переселившийся к родителям после расставания с женой, на этот адрес по запросу Сергея Устиновича поступила справка о реабилитации его брата Василия Устиновича (к сожалению, уже после смерти реабилитированного). Приятно было узнать, что до сей поры в доме Устина и Марфы Шрубковских живут их потомки.
Нет уже на свете детей Марфы Антоновны и Устина Антоновича, нет и нескольких внуков - Валентина и Аллы( дети Надежды Устиновны), Татьяны (дочь Василия Устиновича). Из старшего поколения Шрубковских ныне живет в Америке внук Валентин Шрубковский, в Украине внуки Александр и Владимир Шрубковские, внучки Людмила и Евгения, на Урале внук Василий Шрубковский(имеет дочь Александру, сына Сергея, внуков Максима, Анну, Дарью).
 Василий Устинович ушел из жизни первым из братьев Шрубковских, его скосил рак, покоится на Уральской земле в городе Златоусте. Проводить его из украинской родни смогла только Надежда Устиновна, приехавшая незадолго до его смерти, и ее сын Валентин, прилетевший с Магадана по телеграмме. У всех братьев и сестер Шрубковских наблюдалось заболевание сахарным диабетом, у кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени. Надежда Устиновна долгие годы не обходилась без уколов инсулина, Василий Устинович ограничивался диетой.
Василий Устинович ушел из жизни первым из братьев Шрубковских, его скосил рак, покоится на Уральской земле в городе Златоусте. Проводить его из украинской родни смогла только Надежда Устиновна, приехавшая незадолго до его смерти, и ее сын Валентин, прилетевший с Магадана по телеграмме. У всех братьев и сестер Шрубковских наблюдалось заболевание сахарным диабетом, у кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени. Надежда Устиновна долгие годы не обходилась без уколов инсулина, Василий Устинович ограничивался диетой.
Здоровее и крепче всех оказался старший брат Владимир Устинович, который в 90-х годах установил прочную связь с родными, несколько раз приезжал в Донецк, один раз побывал и на Урале в Златоусте у племянника Василия Васильевича, навестил могилу брата Василия Устиновича. В свои 86 лет, в этом возрасте мы с ним познакомились, он был бодрым, тщательно следящим за своим здоровьем и внешним видом. Рассказывал историю своей жизни, о том как живется ему в Америке.
После расставания с женой пытался устроить свою личную жизнь. Была любимая женщина, и сын ее хорошо относился к Вольдемару (так его называли в Америке). Но родные этой женщины расстроили их отношения. Жил один, имел в собственности участок и небольшой дом в 3 комнаты, с хозяйством справлялся сам. Был в доме большой подвал, где была и стиральная машина-автомат, и сушилка для белья, и мастерская. Просторная терасса соединяла дом с гаражом. Имел машину, водил ее аккуратно до 87 лет. Еду готовил сам, но часто ездил завтракать в ближайший супермаркет. За многие годы жизни на одном месте нашел друзей, с которыми проводил время в спортивном клубе (два-три раза в неделю Владимир Устинович проводил тренировки), на природе (играли в гольф).
Братья и сестры, к которым начал наведываться Владимир Устинович в 90-х годах, с радостью встречали американца. И он от всей души старался им помогать, привозил каждому в подарок доллары, и потом слал переводы племянникам, поддерживая их в трудные периоды. Две племянницы с Украины ездили к нему в гости и готовы были остаться там навсегда ухаживать за дядей, но ему свобода была дороже.Так и жил один. Получал хорошую пенсию, работал часовым мастером в своей мастерской. Только в конце жизни в 88 лет после сильного обострения болезни сын, не появлявшийся несколько лет, приехал и увез отца к себе. Позже был один звонок на Украину, Владимир Устинович известил, что находится в доме престарелых, больше связи с ним не было. В один из приездов на Украину ему с племянницей Аллой Владимировной удалось побывать на родине - в селе Грушковцы (бывшие Войтовцы), увидеть родительский дом, зайти в гости к проживающим там людям, вспомнить свои детские годы.
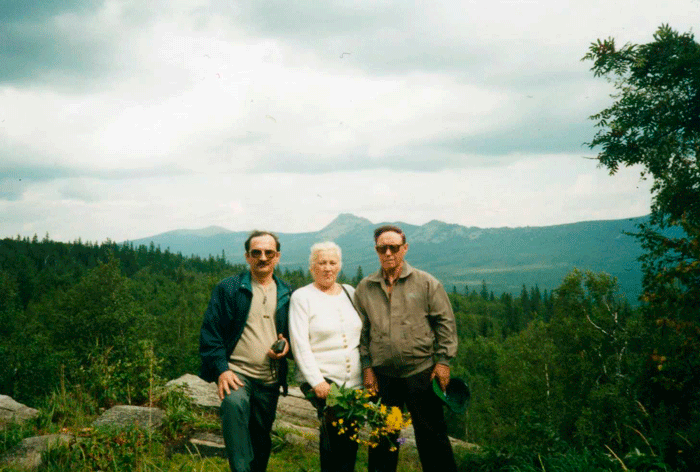
|
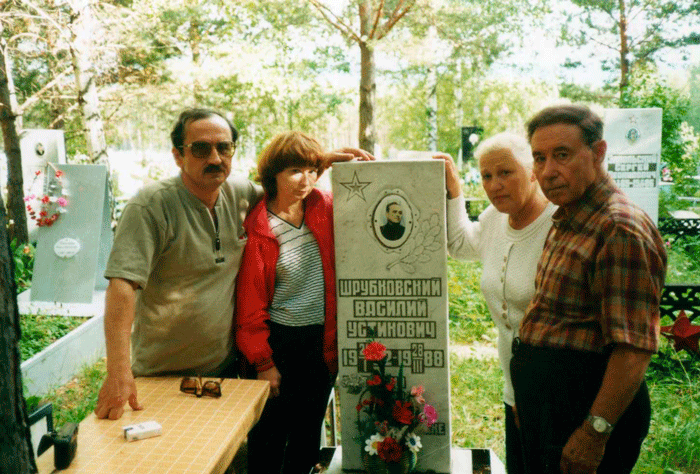
|
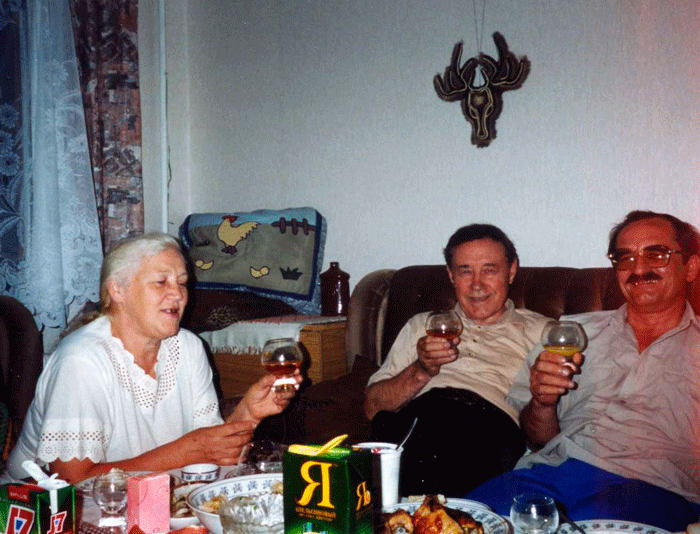
|

|
На фотографиях Владимир Устинович с племянницей Аллой Владимировной Мизинец на Урале у племянника Василия. Благодаря этой встрече мы узнали о некоторых деталях жизни семьи Марфы и Устина Шрубковских, о судьбе самого Владимира Устиновича. Об остальных родственниках осталась память, в основном, в фотографиях. Встречались с тетей Надей, с Аллой, но детали их судеб так и не узнали. О семье Василия Устиновича будет рассказано отдельно.